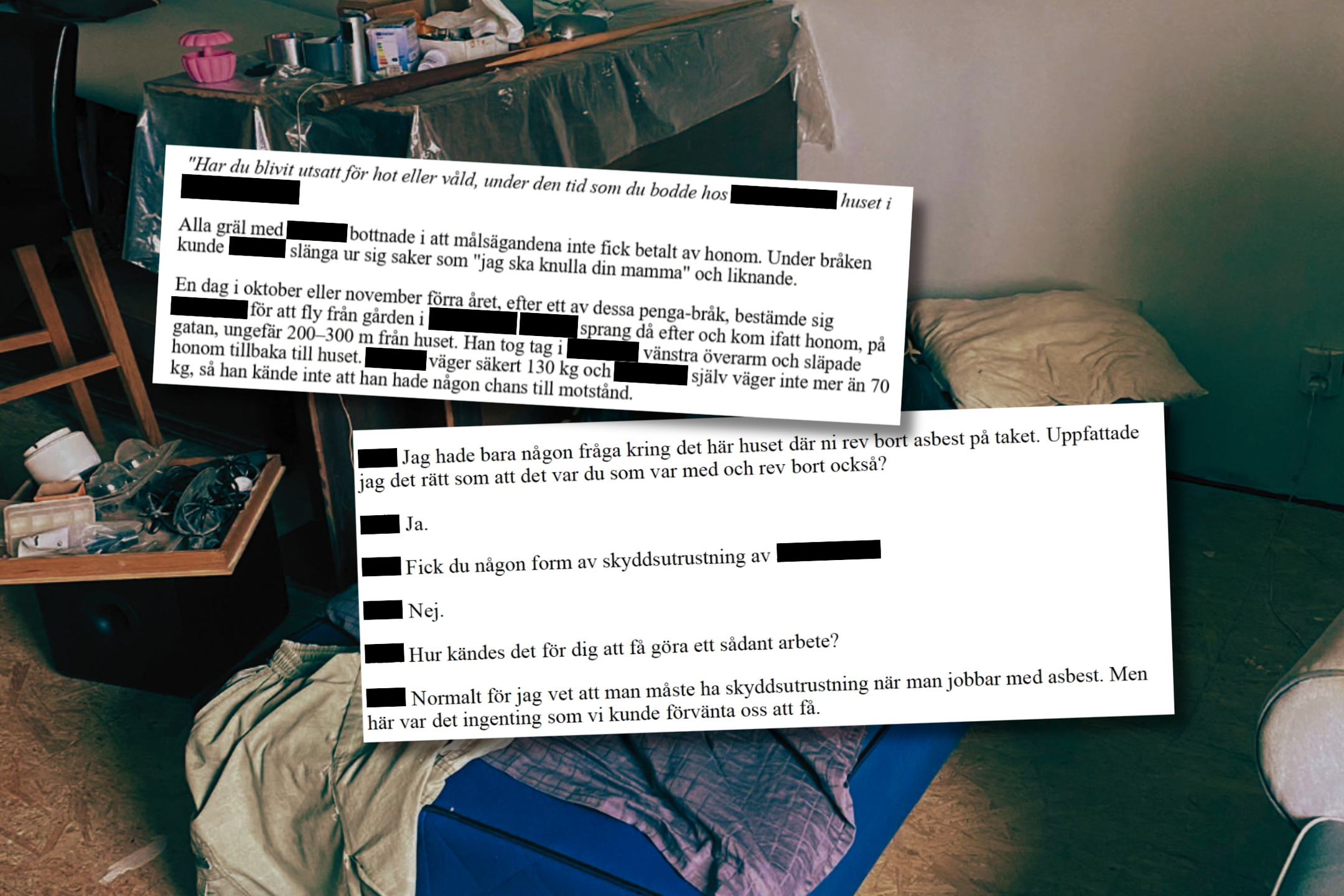Недавно в Aftonbladet вышла дебатная статья о преступлениях в рабочей среде. Её написали представители ведомств, которые должны бороться с так называемой arbetslivskriminalitet — преступностью на рынке труда.
Для того чтобы прийти к этим выводам, им пришлось проделать огромную работу. Но, по правде, хватило бы заглянуть на одно из наших профсоюзных собраний: там сидят люди как раз из тех профессий, о которых они пишут.
Авторы перечисляют проблемы в строительстве, ресторанах и уборке — в тех сферах, где чаще всего работают мигранты. Обращаются они главным образом к потребителям: смотрите на цены, проверяйте F-skatt и наличие коллективного договора. Так, мол, можно заметить недобросовестную конкуренцию, которая бьёт по правам работников. Они также призывают правительство снять «секретность» между ведомствами, чтобы тем проще было обмениваться данными и сотрудничать.
На бумаге это выглядит логично. Но наш профсоюзный опыт другой. Эксплуатируют людей и в дорогих ресторанах в центре Стокгольма, и на объектах рядом с Королевским дворцом — даже у компаний с высокими ценами и коллективными договорами. Больше проверок нередко приводит лишь к тому, что работодатели придумывают новые способы обойти контроль. Каждый следующий шаг требует ещё больше ресурсов.
И при этом почти никто не обращается напрямую к тем, кого эксплуатируют. Почти никто не говорит им простую вещь: у вас те же права, что и у всех на рынке труда. Почти никто не объясняет, как эти права защитить и как избежать эксплуатации, как связаться с профсоюзом и получить поддержку.
Я вспоминаю сказку Андерсена, которую мне читали в детстве. Это сказка о Гадком утёнке. Молодой лебедь, который думал, что он утёнок, постоянно страдал, потому что не знал, кто он. И я думаю: что было бы, если бы хозяева дома, в котором он жил, вкладывали силы в то, чтобы его защитить? Помогло ли бы это ему? Или, может быть, больше бы помогло то, если бы он с самого начала знал, что он лебедь? Возможно, он смог бы ответить своим обидчикам и постоять за себя. Возможно, он сразу нашёл бы свою стаю и чувствовал бы себя в безопасности. Скорее всего, история сложилась бы иначе.
Я снова наблюдаю изменения курса с интеграцией на усиление контроля. Вместо того, чтобы вкладываться в людей. Не эффективнее ли дать знания тем, кто не знает своих прав? Пояснить, что им положено по закону, как действовать в конфликте, как организовываться и вступать в профсоюз?
Говорю это из собственной практики. Я много работаю в соцсетях с мигрантами, провожу семинары и вебинары — в том числе для тех, кто приехал из Украины по директиве ЕС о временной защите. Мой опыт один и тот же: люди не знают своих прав и не понимают, куда обращаться, когда их нарушают. Поэтому соглашаются на эксплуатацию и теряют деньги.
При этом на сайте Arbetsförmedlingen я не встречал простого и понятного описания прав участников программ «Nystartsjobb» или «Rusta och matcha». Там нет объяснения, что такое коллективный договор и какова роль профсоюзов в шведской модели. В курсах SFI этого тоже нет. Нет даже базового «теста по правам работника» — наподобие обязательного инструктажа по технике безопасности для тех, кто идёт работать на стройку.
И когда ведомства говорят, что государство теряет на этом миллиарды крон, и предлагают нарастить контроль работодателей, разве не стоит задать ещё один вопрос: не эффективнее ли параллельно — а может, и в первую очередь — информировать самих работников об их правах?
Короткую версию этой колонки я пытался опубликовать как реплику в Aftonbladet— чтобы донести мысль шире. Редакция её не приняла.
Иван Семенов, член правления синдикалистского профсоюза Solidariska byggare, веду блоги о правах работников на YouTube и TikTok